Цвет огня
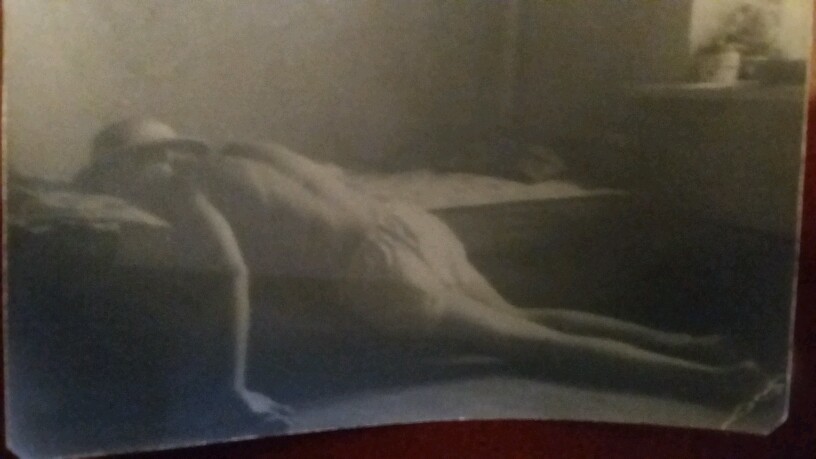
«Когда-нибудь я все-таки тоже помру, и земля залепит мои глаза, и я сгину куда-то туда…» Он открыл глаза, зная, что сейчас, вот-вот, все надуманное им уйдет, и все ушло. Он еще не умирал и поэтому не увидел мглы. Вместо этого он увидел небо. Тогда он сел и посмотрел на себя. Наконец сутуло привстал, натянул брюки и остальное. Лишь после этого, переступив затекшими ногами, обернулся. Всмотрелся туда, вверх от речки, по взгорку. Церковь - да, та самая. Можно было б уже и идти.
Пыльная тропа вела к кладбищу не напрямую, а с широким загибом, плавно. Словно давала время. Назвать место совсем уж заброшенным оказалось бы несправедливо. Не хоронили, похоже, давно, однако прошлогодняя трава была по большей части как-то убрана. Ноги живых протоптали кое-где меж оград удобные для себя проходцы. Он был уверен, что найдет могилку по памяти. Так оно и вышло: остановился, уперся глазами. Здесь.
Оградка была уже не оградка, а над округлившимся мшистым холмиком, над посеревшей, из толстой фанеры, пирамидкой с торчащей сверху ржавой звездой, лесом стояли стебли старых трав. Он шагнул через ограду, шатнул скамеечку и осторожно сел.
И при жизни бати как-то не умели они при встрече толком здороваться – то за руку, то нет, то в щеку, то никак. Вот и теперь. Они просто молчали. Потом, конечно, доставал он из сумки стаканы, ставил один на холмик в мох, лил водку, накрывал ломтем хлеба, раскладывал цветную карамель и сушки. Потом повыдергивал старую траву вокруг. Но вот засобирался и оглянулся в последний раз. «Что ж там все-таки?». Ни на что больше особенно не глядя, вышел с кладбища и зашагал по той же тропе, к речке и дальше, куда-то дальше.
С электричкой он не рассчитал, и выходило так, что болтаться по пристанционной площади ему светило едва не до вечера. Осмотревшись, надумал зайти в столовую. В помещении оказалось тесновато и шумно. Приценившись, взял на раздаче борщ, котлету с пюре и желтоватый компот. А хлеб у него был. Побрел между столов и кое-как нашел свободный стул у стены, у мутного окна. Двое пожилых мужиков за его столом прервали разговор и глянули спокойно, без лишнего интереса, на мятый его, совсем не местный пиджак и на него. Помедлив, один достал из кармана брезентовой куртки зеленую бутыль без этикетки, разлил по двум стаканам. Он тоже достал свое, налил, задержал в руке и покосился на соседей. Те чуть заметно кивнули с пониманием. Все в молчании выпили и заели, чем было. Потянулись за папиросами. Исподволь затеялась вразумительная беседа.
Пьют в этой части земли, мы знаем, всегда примерно одинаково. Бутыль у мужиков оказалась не последней, и разговор поэтому стал подбираться все глубже к сути самых задушевных вопросов, делался все обстоятельнее и бесконечнее. Поглядывая иногда за окно и вокруг себя, он как будто замечал уже и сгущение вечернего воздуха, и другие приметы истечения времени, но, однако ж, совсем не желал останавливать на этом внимания. Но вот, невнятно извиняясь и приводя неясные аргументы, мужики расшатанно отвалились от квадрата стола, в сизом воздухе в последний раз колыхнулись пятна их остывающих лиц, а потом всё уже совсем распалось в тумане и небытии. Легкость и тяжесть ворочались и перекатывались в нем одинаково огромными шарами, отчего его вкривь и вкось укачивало в потоке оборванных смыслов происходящего. А за окном едва видимые в отсветах фонарей черные ветки кустов маялись на ветру и горевали о молодости, которой нет и не было никогда.
Наконец он вывалился в темень улицы и сделал несколько шагов никуда. Повел неровной линией взора, соображая, что же теперь. Он не знал уже и того, откуда вышел. Не было нигде на свете места, откуда вышел в эту темень он. Вот увидел, как белесая фигура приближается наискось – и к нему, но и в сторону. Уже она и близко, но и удаляется все быстрее. Казалось даже, ангел это был, и довольно высокого роста. В отчаянии он всем собою, как сумел, продвинулся к фигуре, выдавливая страшные и вопросительные звуки, но ответом ему могли бы стать какие угодно слова: он не понял бы их никак и ни за что. В эту значительную минуту асфальт вдруг вздрогнул, покосился перед ним и с размаху ударил в лицо.
Ого! Вот то ли совсем его не стало, то ли нет еще, но как-то сразу вознесся он над оврагами и весями, и – мимо, мимо железных дорог и кладбищ, и – вверх, над ними, надо всем, что знал и мог, раскидывая невесомые руки, направился он. Выше, выше! Но… Уперся лбом словно в лед, взглянул сквозь него – о! «Что же?» – спросил. Да ничего, мол, давай выше, коли сила есть!.. Холодно. Чем выше к небу – холоднее. Над ним – лишь лицо или голос, лишь звон или голос издали.
Мог барабанить последний в этот август дождь, да где-то, вполне возможно, висела луна. Это бывает редко. Может быть, и не редко, но на то надо бы чаще гулять – чтоб увидеть. Гулять подальше, и хорошо, если по проселку, где-нибудь в лугах, и в средней полосе, и чтоб небо уже темнело. Бывает так, что от спокойной земли поднимается и на короткий миг плавит мглу цвет родившегося огня. Значит, кто-то ушел.
И в этот час, когда стихают силы звуков, кому-нибудь из не спящих в ночи, из живых, может послышаться словно не с этого света доносящийся, невозможный и ясный человеческий вой или, пожалуй, пение. Что это за звуки, неизвестно. То ли кто-то несчастный стенает с тоски, то ли чья-то шальная душа летает на воле над городом или молодыми полями – и не понимает еще, где летает она.